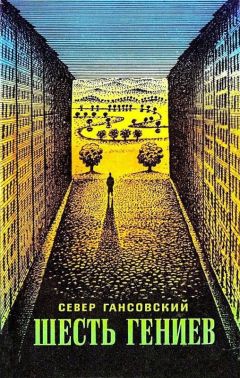Накал у причала поостыл еще и потому, что теперь каждый (до последнего, затерянного в толпе солдата) знал — в степи на подходе к переправе стоит оборонительное заграждение с наведенными пушками, противник внезапно не нагрянет. Там распоряжался Звонцов.
У Смачкина отобрали Чуликова, и он уже не отпускал меня от себя. По примеру полковника мы из числа мечущихся тоже сколотили отряд автоматчиков. В нашу задачу входило раздвигать по сторонам брошенные повозки, теснить машины — через растянувшуюся переправу вдоль реки прокладывалась трасса, по которой двигались автоцистерны и порожние грузовики в распоряжение капитана Климова.
Нам повезло — освобождая затор, случайно наткнулись на два высоких фургона-близнеца, они оказались дивизионной ремонтной мастерской во главе с младшим лейтенантом-воентехником, с десятком слесарей-механиков, с сохранным оборудованием и, что важно, со сварочной установкой. Их тоже направили к капитану Климову.
Весть о строительстве нового парома разнеслась по переправе еще до наступления ночи. Измаявшиеся в бездельной толкотне солдаты хлынули к строительству, каждый желал предложить свою помощь, заработать себе место на первый рейс. Наплыв добровольцев оказался столь велик, что Климову пришлось выставить ограждение, иначе работа бы захлебнулась*
Едва появлялась очередная автоцистерна, как к ней кидались десятки людей. Лязгал металл, ухали кувалды, раздавались торжествующие крики: «Р-р-рраз-два! В-взя-али!..» Рвали на клочья ночь судорожные, слепяще-голубые огни сварки. По обрыву прыгали, кривлялись гигантские тени, возносились в черное небо, раскатывались по черной глади натужные голоса: «Ры-аз-два!.. П-шла! П-шла! Ще р-раз!» И всплески стаскиваемых в реку сваренных секций, и вразнобой говорок топоров, и вырванные из ночи дерзкими вспышками белые фигуры людей в дегтярной воде, и бледная недоуменная луна свыше, и слитная толпа оттесненных зрителей, забывших об опасности. Лихорадочный труд, заражающий надеждой.
Фантастическая ночь. Каждый раз, попадая к строительству, я пьянел и каждый раз изумленно вспоминал: буйная ночь рождена рядом со мной выкриком Чуликова. Где он сейчас?.. Где-то тут, мне недоступный, внутри звенящей, гремящей, слепящей вспышками, многолюдной фантасмагории… Должно быть, и Смачкин изумлялся вместе со мной, но скрытно, не показывая того.
После полуночи Смачкин отпустил автоматчиков — капитан Климов получил все, что могла дать переправа, в нашей помощи больше не нуждался.
— Посидим в затишке, поостынем…
Только сейчас мы почувствовали, что ночь знобяще прохладна. Слева подмывающий шум строительства, справа гомонок у причала — подошел в очередной раз паром. И завороженная речная гладь прямо перед нами, таинственно бескрайняя, скрыт мраком другой берег. Тихий Дон…
Па границе света и мрака вырос, помаячил, осел зеленый столб, прокатился и канул взрыв. Шальной снаряд не нарушил покоя могучей реки. Тихий Дон… Плывет из вечности в вечность. Днем он готов был принять и нас в свои объятия, днем Звонцов произнес безнадежные слова: «Путь к спасению сквозь игольное ушко…» Слышу победоносное громыхание кувалд — и сквозь игольное ушко сможем! Не обессудь, Тихий Дон…
Но рядом Смачкин. В столь редкую отдохновенную минуту от него тянет, как от малярийного больного.
— Неласково встретит нас тот берег, — роняет он.
— Почему?
— Побитых хлебом-солью не встречают.
— Побитые, да недобитые, — возражаю я, — Сквозь игольное ушко от немцев уходим.
— То-то, сквозь игольное… До крови ободранные.
— А все-таки целы, лейтенант.
— Це-лы?.. А где Пугачев? Где четвертая батарея? Что мы без них?
— Что-то там случилось, мы же с вами не виноваты в том.
— Не виноват только победитель, дружок.
— Все равно за несчастье Пугачева с нас не спросят.
— Спросят. И будут правы.
— Н-не пойму.
— Растолкую на пальцах. Сколько пушек мы доставим на тот берег? Две с нашей батареи, две с третьей, три со второй — семь орудий, больше половины потеряли. Вот если б сохранилась четвертая батарея с ее четырьмя орудиями — одиннадцать! Это все же дивизион. И нет командира, нет штаба. Нас расформируют, мальчик. Считай, как отдельная боевая часть мы уже перестали существовать.
— Но мы живы, живы! Значит, будем драться!
Смачкин горько хмыкнул.
— До каких пор нам обещать себе — будем?.. И сколько можно мириться, что еще одна боеспособная часть перестала существовать?
— Так что же делать, товарищ лейтенант?
Он задумался и не сразу ответил:
— Да-а… Да-а… Что? Могу ответить только одно: наша земля горит, должны гореть и мы. Гореть, парень, а не тлеть!
От этого ответа мне как-то ясней не стало.
— А! Толочь воду в ступе… Пошли.
Смачкин торопливо поднялся.
Я лез за ним, спешащим вверх по обрыву, и пытался заставить страдать себя за несчастье Пугачева. Хотелось воспылать душой, и как можно горячее, но майор Пугачев был для меня всегда столь недоступно высок и могуществен, что мог вызвать лишь почтительность, а никак не сострадание и упреки. Вместо Пугачева ко мне вломился Ефим. Со щемящей отчетливостью я представил себе — никогда не увижу его насупленных бровей, не услышу его глуховатый голос. Припомнилось, как он схватил меня за ногу, когда вслед за Сашкой Глухаревым я собирался проскочить под снайпером. Словно клещи наложил: «Повремени, сынок…»
А внизу под берегом вперепляс, весело перестукивались плотницкие топоры, крепили воедино сваренные секции. Веселый перестук обещал жизнь.
Василий Владимирович Быков
Карьер
Пробуждение едва наступило, но сон уже отлетел. Агеев это понял, минуту полежав неподвижно, с закрытыми глазами, будто опасаясь спугнуть остатки дремоты.
Несколько последних дней он стал просыпаться до срока, когда еще не начинало светать и парусиновый верх палатки еще чернел полночному непроницаемо, а вокруг стояла мертвенная тишь, какая бывает глухой ночью или накануне рассвета. Было прохладно, он это почувствовал шершавой от щетины кожей щек, начавшей стынуть макушкой головы. За лето он так и не привык забираться в мешок с головой — вечером в том не было надобности, в палатке долго держалось дневное тепло, лишь на исходе ночи, перед рассветом, когда выпадала роса и верх палатки набрякал стылой влагой, становилось прохладно. К тому же на голове у Агеева давно уже не было того жесткого, непокорного чуба, который украшал его в молодости. С годами волосы поредели, утратили былую пышность, удлинились залысины, и голова стала чуткой к прохладе. Что ж, все, наверно, в порядке вещей — такова жизнь.
Вставать было рановато, да и не хотелось вылезать из нагретой за ночь уютной тесноты спального мешка, и он лежал так, с закрытыми глазами, дремотно прислушиваясь к едва различимому в тишине шуму листвы на деревьях поблизости. Этот тихий, иногда мерный, иногда тревожно мятущийся шум листьев сопровождал его сон каждую ночь, порой немного затихая, но к утру обычно становясь беспокойнее и слышнее. Агеев уже свыкся с ним за лето и почти не замечал его — шум стал частью его тишины и его затянувшегося одиночества возле этого кладбища, на краю заброшенного карьера.
Поодаль за дорогой в крайних дворах поселка визгливо залаяла собачонка. Агеев знал ее, иногда та прибегала к его одинокому стойбищу, останавливалась в отдалении и наблюдала за его возней у палатки, явно рассчитывая на угощение. Агеев собак не любил с детства, и, хотя относился к ним без злобы, те всегда чувствовали его нерасположение и особенно не напрашивались на знакомство. Собачонка полаяла немного, возможно, на кошку или на птицу в саду и утихла, а Агеев стал дожидаться других звуков. Обычно раньше других в сторожкой утренней тиши раздавались приглушенные пространством хриплые окрики — это хозяйка высокого, окрашенного в яркий канареечный цвет дома отправлялась на утреннюю дойку в хлев я, похоже, вымещала на корове свое недовольство жизнью, то и дело озлобленно матерясь, чем всегда резко нарушала летний покой утра. Несколько раз Агеев видел ее за изгородью во дворе, это была не старая еще, крупнотелая, с басистым голосом тетка, одетая по утрам в заношенный ватник, с уверенными манерами домашней правительницы. Сегодня, однако, голоса ее не было слышно — наверно, заспалась хозяйка этого добротно выкрашенного дома. Слегка прислушиваясь, Агеев открыл глаза — низкий верх одноместной палатки уже явственно проступал из сумерек, обнаруживая знакомые мелочи: тесемочную шнуровку входа, размытые, непонятного происхождения рыжие пятна на парусине; в самом конце матово светилась небольшая, с гривенник, дырка, недавно прожженная выскочившей из костра искрой.
![Василь Быков - «Подвиг», 1989 № 05 [Антология]](https://cdn.my-library.info/books/143757/143757.jpg)